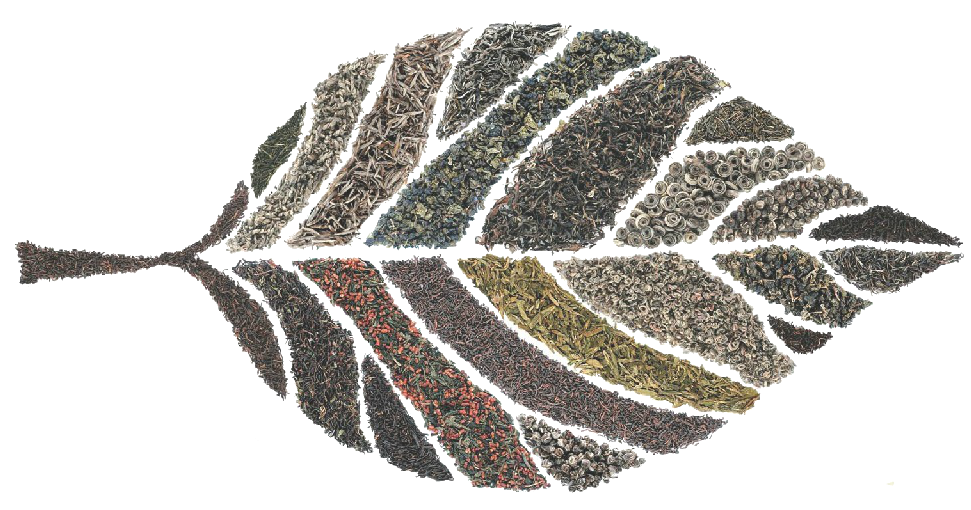
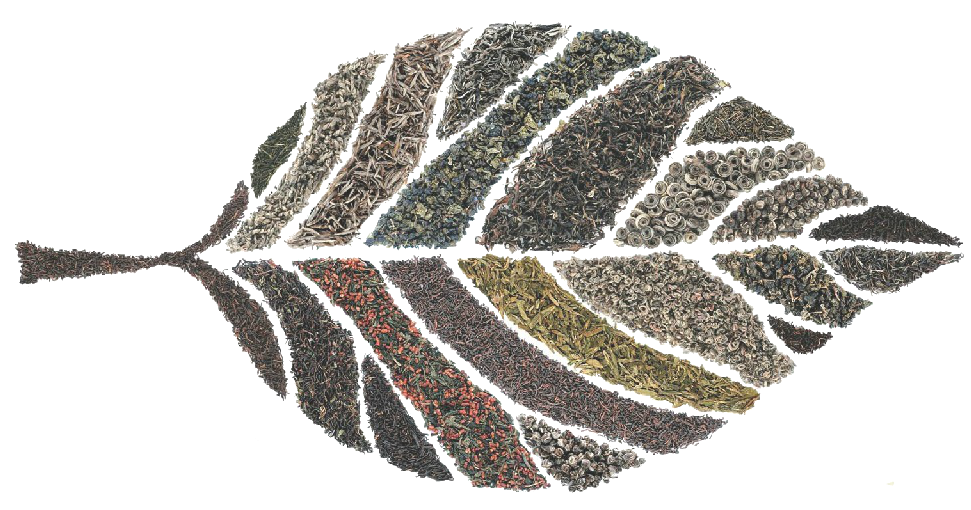 |
Чайный Лист |
Всё о чае. Введение Заварить чашку чая |
История чая в РоссииЕще до установления торговых отношений России с Китаем чай проникал из Монголии в Среднюю Азию, на Урал и в Нерчинский округ. По Кяхтинскому трактату, заключенному в 1727 году, были учреждены два пункта русско-китайского пограничного товарообмена — на речках Кяхта и Аргунь. Первый из них стал основным по торговле чаем и сыграл немалую роль в установлении политических и экономических связей с Китаем. Восточный товар по караванному чайному тракту Ханькоу-Урга-Кяхта, через Гоби, стали доставлять специальные купеческие гильдии. Родились первые русские чайные компании, наладившие собственный транспорт через всю Сибирь. Появились и знаменитые русские самовары. Но чаю на пути в российский «дом» пред- стояло преодолеть не только длинные версты, но и частокол суеверий и предрассудков. Сектанты-раскольники подвергали его анафеме, объявляя таким же греховным зельем, как и табзк. В мещанской среде ему приписывали самые нелепые свойства. И все же напиток волной «разливался» по всей стране. Колыбелью массового чаепития стала Москва. Здесь же сформировался и самый крупный чайный рынок. В начале XX века Россия окончательно заявила себя «чайным государством». На Нижегородской ярмарке — центре внутренней торговли — для чайной было отведено особое каменное здание. Распространению чаепития способствовали многочисленные трактиры, а также постоялые дворы и почтовые станции, где в зимнюю стужу проезжий люд согревался горячим напитком. Отсюда, видимо, и пошло выражение: «С дороги чайку напиться». Ввели чайное довольствие и в армии. На него в основном ставили войска, находящиеся в трудных климатических условиях. Вводили его и там, где появлялась холера,— до прекращения эпидемии. В отечественных исследованиях по истории чая авторы не раз отмечали его «государственное значение». Чай помог установить внешние отношения России с Китаем, а значит, сделал доступными его фарфоровые изделия, шелковые и бумажные ткани. В свою очередь, у «Поднебесной империи» появилось уважение к «Северному колоссу». За чаеторговцами, по проторенной ими дороге, шли научные экспедиции. Вот и выходит, что чайная торговля послужила и своеобразным проводником мировой науки. Велико было также и экономическое значение чая. Более сотни тысяч человек по сибирскому тракту (а это тысячи верст!) кормились от перевозки «сушеных листьев». В промышленности он вызвал к жизни самоварное производство, дал стимул для расширения суконного дела (для обмена с Китаем), а также посудного, сахарного и булочного. Чай разнообразил скудную пищу крестьянского населения, был подмогой на деревенской страде, зимнем извозе и фабричной работе, выручал во время многочисленных постов. Чай не только усиливал трудовую энергию, но и поднимал настроение, «смягчал нравы», способствовал общительности. За пятьдесят лет, прошедших после реформы 1861 года, потребление чая в стране на душу населения возросло более чем в два с половиной раза. В начале нашего века Россия занимала второе, после Англии, место в мире среди главных импортеров чая, оставив позади Соединенные Штаты Америки. В европейской части он пришелся к столу северянам Олонецкой губернии, жителям промышленных городов Ярославщины. Особое значение он имел в рационе татарского населения. Зеленый чай почти целиком оседал в Туркестане, кирпичный — в Казахстане, Киргизии, на юге Западной Сибири и на Урале. А потребление этого вида чая в Восточной Сибири превысило все мировые рекорды — здесь в среднем в год на жителя приходилось до одиннадцати фунтов (1 русский торговый фунт — 0,409 килограмма.— Автор), Много пили чая казаки Амурской области, крестьяне Приморья и Восточного Забайкалья, но больше всех — до тридцати фунтов в год — буряты, у которых, как и у соседей — монголов, зеленый чай шел в похлебку. И все же для подавляющего большинства крестьян России чай оставался предметом роскоши. Высокая цена позволяла пить его лишь в редких случаях — не зря, видно, появилось выражение «чайком побаловаться». Да и другое, не менее известное изречение «дать на чай» родилось именно в ту пору, когда на чай у многих, в прямом смысле, не хватало. А между тем общая сумма государственного дохода от продажи чая, включая транспортные тарифы, превысила в последний год царствования династии Романовых девяносто миллионов рублей. первые всходы и сборы Первые попытки «прописать» чайный куст в России стали предприниматься еще в начале минувшего века. Начались поиски с Южного берега Крыма, где основатель и первый директор Никитского ботанического сада X. X. Стевен приступил к испытаниям «расти могущих и в каком-либо роде хозяйства полезных или только для украшения служащих деревьев, кустов и трав». Причем начал он как раз с чайных кустов, полученных в 1814—1818 годах из Парижа и Петербурга. В теплицах Артека, где они дали спелые семена, их удалось размножить. В 1838 году новый директор сада Н. А. Гартвис, посадив чайные кусты в хорошую луговую почву, получил неутешительные результаты: из-за недостаточной температуры, влажности воздуха и неподходящих почвенных условий новоселы, перенесенные в открытый грунт, росли плохо. Убедившись в бесперспективности внедрения чая в промышленную культуру на берегах Таврии, экспериментатор оставил несколько образцов чужеземной неженки для никитской коллекции, а большую часть в 1842 году передал по эстафете своим южным коллегам в только что организованный в Сухуми Военно-ботанический сад. Через пять лет подобная посылка была отправлена в Гурию — в Озургетский казенный акклиматизационный табачный питомник. Южная оконечность Черноморского побережья Кавказа, входящая в так называемую Пон-тийскую флористическую область, недаром считалась «русскими субтропиками». Переселившись туда, растения почувствовали себя почти как дома. Уже в 1864 году гурийский помещик князь Михаил Эристави (Эристов) собрал с собственного маленького участка в селении Гора-Бережаули Озургетского уезда первый чай, который затем представил на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку в Петербурге. Однако энтузиазм грузинских пионеров чая сразу же натолкнулся на жесткую политику местной и центральной власти. Царское правительство не было заинтересовано в развитии чаеводства в стране, поскольку доходы от продажи импортного чая существенно пополняли казну. Обращая внимание на плачевное состояние чайного дела, выдающийся грузинский писатель и общественный деятель И. Г. Чавчавадзе в своем выступлении со страниц редактируемой им газеты «Иверия» в 1887 году отмечал, что чайный куст больше высаживается на белой бумаге и поливается черными чернилами. В защиту чая страстно выступил почетный доктор физической географии Московского университета, основоположник отечественной метеорологии профессор А. И. Воейков. За акклиматизацию в Закавказье чайного куста, возможность которой он обосновал в классическом труде «Климаты земного шара», ученый ратовал в своем 2—1265 обстоятельном докладе в Географическом обществе. Это выступление получило поддержку профессора Петербургского университета академика А. М. Бутлерова. Знаменитый химик посадил на своем дачном участке, расположенном к югу от Сухуми, чайные кусты и приступил к разработке технологии переработки и рецептуры выделки чая из их листьев. Полученные результаты он продемонстрировал во время своего доклада «О культуре чая в Закавказье» 16 мая 1885 года на общем собрании Вольного экономического общества в Петербурге. Не удовлетворившись достигнутым, он стал собираться в еще более дальнюю дорогу — в Индию, где намеревался изучить способы механизированной обработки чайного листа. К сожалению, незадолго до начала намечавшейся экспедиции Бутлеров скончался. Эстафету двух великих ученых подхватил известный в Закавказье общественный деятель, магистр ботаники, флорист, систематик и статистик, автор работ по естественной истории и этнографии Кавказа Н. К. Зейдлиц. В 1884 году он выступил на Международном съезде ботаников и садоводов в Петербурге с докладом, где доказывал, что пришло время вплотную заняться культурой и производством чая, и призывал поскорее сделать почин. При этом оратор сообщил, что на пути в Россию находится партия семян и саженцев, выписанная по его инициативе из Ханькоу. Призыв нашел отклик в душе отставного инженер-полковника из Тбилиси А. А. Соловцова. Он переселился в Аджарию, только что освобожденную от турецкого ига, приобрел участок в Ма-хинджаури, под Чаквой, по соседству с участком Зейдлица, и с большим энтузиазмом взялся за дело. Так в 1885 году была заложена первая в России промышленная чайная плантация (кстати, растения на этом участке сохранили свою продуктивность до наших дней). За сравнительно короткое время площадь соловцовской плантации была доведена до двух гектаров. Уже в 1897 году образцы аджарского черного байхового чая экспонировались на сельскохозяйственной выставке в Тифлисе. За внедрение новой культуры в крае Соловцову была присуждена Большая золотая медаль. Его чайный сад послужил своеобразным питомником, давшим жизнь многим другим плантациям в Закавказье. В 1893 году рядом с хозяйством Соловцова известный чаеторговец К. С. Попов заложил три имения: «Отрадное» — в окрестностях Чаквы, «Привольное» — в Салибаури и «Заветное» — в Капрешуми. Перед этим он совершил три поездки в Китай, а потом снарядил специальную чайную экспедицию во главе с профессором фармакологии Московского университета В. А. Тихомировым в Японию, Китай, Северо-Восточную Индию, Цейлон, Яву и Сандвичевы острова. Экспедиция продолжалась четыре года и вернулась с богатыми коллекциями семян и растений. Тем временем Попов скупил обширные участки. Для организации чайного хозяйства он пригласил заведующего кафедрой общего земледелия и почвоведения Петровской академии В. Р. Виль-ямса. Спустя десять лет после закладки имений площади плантаций увеличились до 133 гектаров, а количество кустов достигло полутора миллионов. Весной 1894 года с помощью вызванного из Китая мастера Попов получил в Чакве первый урожай своего чая. 
Через три года коммерсант выписал из Лондона оборудование для чайной фабрики и уже на следующий, 1898, год получил в «Привольном» первые 5200 килограммов фабричного грузинского чая. Технологию фирма держала в строжайшей тайне. Попов был близок к царскому двору, принимал участие чуть ли не во всех выставках, устраиваемых в России и за границей. В 1900 году на Всемирной промышленной выставке в Париже его наградили Большой золотой медалью «За лучший в мире кавказский чай». Впоследствии он стал консультантом Министерства земледелия по чайным делам, но и на этом посту больше пекся о преуспеянии своей фирмы, нежели о судьбах отечественного чаеводства. возвращение золотого руна Подлинным подвижником российского чаеводства стал И. Н. Клинген. Ученый, агроном-органи-затор, экономист, ботаник, историк, этнограф, почвовед и климатолог, он оставил яркий след в истории нашего сельского хозяйства как неутомимый энтузиаст отечественного субтропического земледелия. Крутому повороту в его биографии способствовал случай. В 1892 году Клинген получил от Главного управления уделов, ведавшего землями императорской семьи, приглашение занять должность инспектора кавказских удельных имений династии Романовых. «Русские субтропики» произвели на него неизгладимое впечатление. Уже первое знакомство с местными условиями утвердило Клингена во мнении, что влажные черноморские «джунгли» самой природой предназначены для чаеводства. С помощью этой культуры, по мысли Клингена, можно было помочь многочисленному классу кавказских крестьян. Инспектор мечтал о хозяйстве, которое стало бы школой для тысяч будущих чаеводов. Но для широкой постановки дела требовался посевной материал и опыт культивирования. Клинген решил использовать высокую «фирму», где служил сам, соблазнить ее перспективой отхватить солидный куш на чае собственной фабрикации. И он бросил в столичный «огород» пробный камень-приманку: не гоже, дескать, могущественному управлению владений, записанных на высочайшее имя, ударять в грязь лицом перед отнюдь не августейшей особой соседа-земледельца. Наживка подействовала — Чаквинское имение удельного ведомства, конечно же, не пожелало срамиться перед выскочкой из купеческого сословия и решило щедро раскошелиться. Уже в 1893 году, как бы бросая вызов Попову, оно приобрело в долине Чаквы более пятнадцати тысяч гектаров земли, где по проекту Клингена намечалось разбить обширное субтропическое хозяйство с культурой чая в его основе. Затем, снова в пику Попову, ведомство снарядило собственную экспедицию к берегам Индийского и Тихого океанов. Возглавить ее было поручено Клингену, а в помощники к нему пригласили профессора Харьковского университета A. Н. Краснова, довольно известного к тому времени ботаника и географа. Экспедиция длилась с февраля 1895 по март 1896 года. Ее участники побывали в Индии и на Цейлоне, в Китае и Японии. Это «хождение за три моря» — первая комплексная сельскохозяйственная экспедиция в субтропические и тропические районы Азии. Труды русских «охотников за растениями» окупились сторицей: в Чакву были привезены шесть тысяч саженцев и более двух тонн семян чая. Сделав первые шаги, Удельное ведомство уже не смогло пойти на попятный. Чаквинское имение, заложенное по рекомендации Клингена и под руководством Соловцова, стало самым крупным чаеводческим хозяйством страны. Свой вклад в его становление внес побывавший здесь в 1898 году директор Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства, основатель первой в России кафедры почвоведения профессор B. В. Докучаев. С того времени импорт посевного и посадочного чайного материала был прекращен, и дальнейшее развитие культуры в Закавказье шло за счет собственных ресурсов. Чаквинское имение, ставшее, по выражению Клингена, «слоном» возникающего чайного дела, вольно или невольно превратилось в центр распространения семян. Чайные участки стали закладывать на своих наделах крестьяне ближайших сел Аджарии. Новая культура постепенно проникала в Гурию и Мегрелию. К началу нынешнего столетия чайные плантации в Чакве занимали уже сотню гектаров и еще 130 гектаров имели под этой культурой малоземельные грузинские крестьяне. В 1899 году в Чакве заработала вторая фабрика, в полтора раза мощнее фабрики Попова. Началось строительство небольших частных и государственных чаеперерабатывающих предприятий. И хотя в целом их продукция еще не отличалась качеством (это были так называемые «солдатские чаи», которые закупало военное ведомство «для довольствия нижних чинов»), все же лучшие образцы чаквинской фабрики, по мнению знатоков, уже напоминали по вкусу яванские. Явление «русского чуда» вызвало замешательство на лондонском рынке. В 1910 году начался массовый выпуск кавказского чая высшего сорта, а через год Грузия вышла на седьмое место в мире по занимаемой площади чайных плантаций и на восьмое — по количеству вырабатываемой продукции. Сбывались пророческие слова Д. И. Менделеева, неоднократно поднимавшего в своих трудах вопросы разведения чая в России. В «Учении о промышленности» (1900) великий русский ученый и общественный деятель с возмущением писал, что огромное количество золота уходит на покупку чая за рубежом, тогда как это растение можно с успехом разводить в Грузии. Сообщив, что в 1898 году урожай чая уже достиг 3000 фунтов, Менделеев сделал вывод: «...можно надеяться, что и тут Россия со временем явится не только потребителем, но и производителем». И Россия действительно стала единственной в Европе страной, жители которой могли пить чай собственного производства. В 1915 году в Грузии (Аджария и Озургетский уезд) плантации чая уже занимали 984 гектара, сбор зеленого листа достиг 650 тонн, что дало 133 тонны готовой продукции. Соратник Клингена А. Н. Краснов мечтал о том времени, когда кавказское Причерноморье станет роскошным краем, более прекрасным, чем сады Монако и курорты Ривьеры. В 1911 году он переселился на постоянное жительство в Батуми, где вскоре основал ботанический сад и журнал «Русские субтропики». При открытии сада в 1912 году Краснов сказал: «В глубокой древности смелый аргонавт Ясон похитил из Колхиды золотое руно. С тех пор Колхида обеднела и влачит жалкое существование. Позвольте выразить пожелание, чтобы золотое руно колхам вернул Батум-ский ботанический сад, став его рощей Ээта». Краснов завещал похоронить его на Зеленом мысу, в одном из живописнейших уголков сада: «Сделайте от могилы просеку, чтобы мне видна была Чаква с окружающими снеговыми горами... Я там впервые начал работу, там тоже осталась частичка моего «я»». Забегая вперед, скажем, что основанный профессором Красновым сад назвали «Советским Бейтензоргом» — по аналогии с всемирно известным ботаническим садом в Индонезии. Постановлением Совнаркома СССР от 30 июля 1925 года он был признан основным научным учреждением страны, занимавшимся чаем и другими субтропическими культурами. На 500 десятинах бывшего Чаквинского имения Удельного ведомства, с которого, собственно, и начиналась наша чайная история, сегодня создан широко известный не только в СССР, но и за рубежом Чаквинский чайный совхоз имени В. И. Ленина. На осушенных болотах Колхидской низменности, рядом с высокоурожайными кукурузными нивами и цитрусовыми садами, раскинулись изумрудные плантации, дающие самые высокие в мире урожаи ароматного чайного листа, в том числе и известного повсюду селекционного чая «Колхида». за чайную независимость В конце 1924 года было учреждено Всесоюзное акционерное общество «Чай-Грузия». В его ведение были переданы Чаквинский и Салибаурский совхозы и выделены значительные средства. Началось строительство чайных фабрик, быстрое и планомерное развитие всего чайного хозяйства. На опытных станциях общества вели работы директор Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур Н. И. Вавилов и молодой биохимик А. И. Опарин. К началу 1930 года площадь плантаций достигла 8000 гектаров, то есть за первые пять лет своей активной деятельности А/О «Чай-Грузия» сделало в семь раз больше, чем было сделано за все семь дооктябрьских десятилетий. В 1932 году Советский Союз имел возможность значительно сократить импорт торгового чая и окончательно отказаться от ввоза чайных семян. В 1927—1932 годах на месте непроходимых зарослей папортника, ольхи и азалии выросли чайные совхозы с благоустроенными рабочими поселками, мощными ветрозащитными полосами, придающими этим местам вид гигантских парков. Число чайных фабрик к 1934 году перевалило за двадцать. Невиданными темпами росла урожайность зеленого листа: в 1932 году—701 килограмм, в 1935—1479 и в 1939 году — 2407 килограммов с каждого гектара. По сравнению с дореволюционным несравнимо повысилось и качество готовой продукции. Многие чайные колхозы и совхозы, а также стахановцы чайных плантаций по праву стали участниками первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В послевоенные годы основная сырьевая база чайной промышленности охватила уже 25 административных районов Западной Грузии. За высокие урожаи 119 передовых чаеводов республики в 1948 году получили высокое звание Героя Социалистического Труда. В 1958 году грузинский чай впервые появился на зарубежном рынке, где сразу завоевал широкую популярность. Сегодня Грузинская ССР дает около 100 тысяч тонн байхового и 40 тысяч тонн расфасованного чая в год — 94 процента всего советского чая. Этой культурой в республике занимаются десятки специализированных хозяйств. Обработка плантаций и уборка на равнинах и склонах крутизной до 12 градусов полностью механизированы. На основе развития сырьевой базы, важным резервом которой стали новые земли, создана технически оснащенная чайная промышленность. от талыша до дагомыса Вторым чаепроизводящим районом страны стал Талыш — расположенная на восточном побережье Кавказского перешейка Ленкорано-Аста-ринская субтропическая зона. В прошлом ее обширные пространства были покрыты болотами. Там, где не было болот, возделывали рис, поля которого также требовали постоянного затопления. В итоге население этого края веками страдало от малярии. Переход к чаеводству позволил бы сократить площади рисосеяния, осушить болота, оздоровить климат азербайджанских субтропиков. Но особенности этих мест не давали возможности однозначно оценить перспективы развития здесь новой культуры. В 1912 году переселенец М. О. Новоселов посеял чайные семена с чаквинских плантаций на своем участке, расположенном в двенадцати километрах от Ленкорани, в местности между Алексеевкой и Сеид-Тюрба. Эта дата считается датой начала разведения чая в Азербайджане. Но только в советское время здесь приступили к созданию чаепроизводящего района страны. В 1932 году родился первенец прикаспийского чаеводства — чайный совхоз имени С. М. Кирова с пятьюдесятью гектарами плантаций близ Ленкорани. В 1937 году был организован самостоятельный трест республиканского значения «Азер-байджан-чай», в ведение которого перешла новая отрасль. В том же году только что построенная Ленкоранская чайная фабрика выпустила первые пачки азербайджанского чая. В предвоенном 41-м республика имела уже более пяти тысяч гектаров изумрудных плантаций. Технология выработки продукта из нового сырья продолжала совершенствоваться в послевоенные годы. Крупным успехом переработчиков можно считать выпуск в 1947 году первых партий высокосортных чаев «Букет Азербайджана» и «Экстра». С 70-х годов чаеводство в Ленкоранской зоне развивается быстрыми темпами. К концу десятилетия здесь уже свыше десяти тысяч гектаров плантаций, дающих 42 центнера с гектара, а общий сбор листа превысил двадцать тысяч тонн. По оценкам специальной экспедиции, работавшей в республике, в Ленкоранском районе имеется 16100 гектаров земель, пригодных для возделывания чая. Становление третьего чаепроизводящего района берет свое начало с 1878 года, когда в Сочи были посажены чайные саженцы из Сухумского ботанического сада. Они погибли в первую же зиму. К счастью, об этой и других неудачах не знал малороссийский крестьянин И. А. Кошман — будущий «отец краснодарского чая». В конце прошлого века его обездоленный род снялся с родных насиженных мест Слобожанщины и подался в поисках земли и лучшей доли к кавказскому Причерноморью. Глава семьи скитальцев нанялся чернорабочим на одну из чайных плантаций в Чакве. Работал от зари до зари, откладывая гроши, чтобы заиметь собственный клочок земли. Годы работы на плантации обогатили сметливого крестьянина опытом возделывания южной культуры. Почувствовав себя в силах заняться этим делом, стал Иов Кошман подыскивать подходящий уголок. Но вокруг Батуми, в Аджариста-не, все уже было занято, а за еще не разработанные участки их владельцы назначали непомерно высокую плату. И в конце 1900 года Кошман со всем семейством подался по Черноморскому побережью на север, прихватив с собой чаквинские семена. Позади уже были Сухуми и мыс Пицунда, а Кошманы все шли, пока не облюбовали себе необжитое место неподалеку от Сочи, в предгорьях Дагомыса, где горный хребет рассекала быстро 
течная речка Шаха. Тут и остановились. Всей семьей стали осваивать пустырь на одном из приглянувшихся холмов, выкорчевывать на нем дикий кустарник и разравнивать каменистый склон. Почвенный слой здесь был довольно тощий, так что илистые суглинки пришлось носить наверх с приморской низины. Несмотря на не совсем благоприятные климатические условия — низкие зимние температуры и недостаток влаги,— растения прижились. Осенью на участке в шесть соток зазеленели первые всходы. Старожилы окрестных мест с нескрываемым состраданием наблюдали за «пустыми хлопотами» пришельцев. А тут еще слишком суровая зима. Морозы доходили до двадцати градусов. Пришлось выносить из дома все холсты, мешковину, одеяла и даже праздничные одежды, чтобы укрыть ими нежные ростки. Так удалось спасти две трети посева. Для защиты теплолю- бивых растений от холодных ветров Кошманы обсадили участок живой изгородью из жасмина. Слухи о плантации, заложенной в Сочинском округе, не на шутку встревожили чайного туза Попова. Его агенты конфисковали «незаконный» зеленый лист — ведь на земельный участок у пришлого самозванного чаевода не нашлось официальной бумаги. А потом в дом нагрянула полиция. Устроила обыск, перевернула все вверх дном и приказала очистить участок. Объяснение хозяина, что-де земля эта была ничейной и до его прихода пустовала, не подействовало. Пришлось горемычной семье вновь укладывать пожитки. Теперь они решили уйти в горы, подальше от глаз блюстителей порядка. В тридцати пяти километрах от первой стоянки, вверх по Шахе, у адыгейского селения Солох-Аул, нашли они склон, покрытый красно-кислой глинистой почвой, весьма подходящей для чайного куста. Вновь начался ежедневный кропотливый труд, принесший удивительные плоды. Первый урожай Кошман уложил в кожаный сундук, с которым они когда-то выехали с Украины, запряг волов и поехал на сочинский торг. Уже после первой распродажи слава о чае, выращиваемом местным «чудаком», разнеслась далеко за пределы курорта. Приятным вкусом, тонким ароматом и благородным колером он значительно превосходил батумский чай. Своим напитком гостеприимный хозяин щедро угощал путников. Более того, он настойчиво советовал соседям заняться разведением чая, ходил по ближайшим селениям, бесплатно предлагая выращенные им саженцы. Однако охотников не находил: местному населению привычнее и выгоднее было заниматься садами и виноградниками. Ученые тоже не сразу оценили значение инициативы Кошмана. На съезде ботаников в Петербурге в 1912 году отмечалось, что ,чай (равно как и мандарин и другие субтропические культуры) может иметь промышленное значение лишь в районе Батуми. Придя к выводу, что испытанием этой культуры следует заниматься в южных районах до Гагр, съезд решил, что вопрос о чае в районе Сочи и севернее должен быть снят как совершенно безнадежный. По иронии судьбы, через год чайные растения Кошмана с большим успехом экспонировались в том же Петербурге на выставке «Русская Ривьера». Уже в первые послереволюционные годы селекционером-самоучкой заинтересовались работники Сочинской опытной станции. Ему выделили средства, необходимые для продолжения экспериментов. Плантация Кошманов из 800 кустов практически превратилась в государственное семенное хозяйство, которое вскоре стало обеспечивать материалом вновь образуемые участки в Адлерском районе. Буквально на следующий год после кончины Кошмана, в 1936 году, началась закладка первых сотен гектаров плантаций в приморской зоне Краснодарского края — не только в Сочинском и Адлерском, но и в Лазаревском районах. Используя принцип ступенчатой акклиматизации, советские ученые продвигали чайное растение из южных районов в более северные — в предгорья Кубани. В 1945 году на побережье был организован трест «Краснодар-чай», а в последние годы на базе первого в крае чайного совхоза «Дагомыс-ский» образовано производственное объединение «Краснодарский чай». Его продукция по своим вкусовым качествам считается одной из лучших в мире. С начала 80-х годов, с тех пор как на Международной дегустационной выставке в Брюсселе дагомысский чай на равных с цейлонским получил золотую медаль, местная фабрика стала работать на экспорт. Всего в крае работают две перерабатывающие фабрики. Чай зеленеет на площади 1,6 тысячи гектаров, его средняя урожайность достигла 4000 килограммов с каждого гектара. Русский, или краснодарский, чай остается пока что самым молодым из промышленно возделываемых в мире. Хотя была уже не одна попытка «состарить» его. Так, в 1953 году селекционер А. В. Паравян пробовал получить казахстанский чай. До сих пор никак не начнется промышленное производство многообещающего чая, выведенного на западных окраинах нашей страны. Об этом, пожалуй, следует рассказать подробнее. самая северная прописка Академия наук СССР в творческом содружестве с республиканскими академиями и Министерством сельского хозяйства СССР организовала обширные исследования, чтобы выяснить возможности «осеверения» южанки. Организованная Советом по изучению производительных сил при АН СССР объединенная комплексная экспедиция по развитию культуры чая провела опыты в Крыму и Молдавии, в Дагестане и Северной Осетии, изучила «чайный потенциал» Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, Приморья, Сахалина и южного острова Курильской гряды — Кунашира. Усилиями ученых-энтузиастов культура настойчиво продвигалась в новые районы. В результате этих усилий в 1949 году чайную эстафету приняла украинская земля. В тот год семена посеяли у самых западных границ нашей Родины. Спустя три года там же в порядке широкого производственного испытания были заложены первые десять гектаров колхозных плантаций. Самым северным на Земле адресом прописки этого теплолюбивого растения стала Закарпатская область. Сам по себе факт его проникновения в столь высокие широты явился событием мирового значения, вошедшим в список смелых научных экспериментов. Изучение возможностей акклиматизации чайного куста на солнечных террасоподобных склонах и предгорьях Карпат началось под руководством профессора В. Б. Сочава в период работы закарпатско-молдавской ботанической экспедиции академий наук СССР и УССР по развитию культуры чая. Северный горный щит, обеспечивающий мягкий климат, кислые почвы, сформировавшиеся под воздействием лесной растительности, должны были, по прогнозам ученых, благоприятствовать развитию чаеводства в южных районах Закарпатья — Ужгородском, Мукачев-ском, Иршавском, Севлюшском и Береговском. В ходе почвенно-климатического обследования этого предгорного края, где произрастают персики и виноград (последний, выращиваемый на холмах и предгорьях, даже не укрывается на зиму), было выявлено до 6000 гектаров земли, пригодной для расселения экзотического куста. В ряде мест создали так называемые географические участки. Они размещались в различных экологических условиях зоны, по вертикали от равнины к горам, и охватывали разнообразные климатические и почвенные вариации. На них-то и посеяли семена сортов, специально подобранных грузинскими селекционерами. На организованной вблизи Мукачева опытной базе — опорном пункте Всесоюзного НИИ чая и субтропических культур — уже в 1949 году заложили опытную плантацию из различных популяций и сортов чайного растения. Как и следовало ожидать, переселенец с юга оказался довольно привередливым новоселом. Удовлетворить все его требования, запросы и капризы практически было невозможно. Почти везде изнеженный гость чувствовал себя неуютно. И вдруг — приятный сюрприз: на Красной горе, в окрестностях Мукачева, кусты, разместившиеся чуть выше аборигенов-виноградников, не получали обморожений, прижились и освоились. Закалившись и адаптировавшись к более суровому климату, растения-«красногорцы» через несколько лет стали не только цвести, но и плодоносить. Полученное от них потомство послужило исходным материалом для конструирования собственно украинских форм. Первый украинский чай был собран еще в 1952 году, в районе реки Латорицы. Первенца назвали, естественно, «Закарпатский». По урожайности он не уступал средним показателям, которые его родители демонстрировали в Закавказье,— от 24 до 60 центнеров зеленого листа с гектара. Результат дегустации превзошел все ожидания: знатоки признали, что по вкусу новый чай ничем не уступает кавказскому и даже заокеанскому. Тогда-то его и переименовали в «Закарпатский 1» — в надежде на то, что за первенцем наверняка последуют другие коренные сорта и гибриды. Большими энтузиастами новой культуры в Закарпатье стали коллективы кафедры физиологии растений Ужгородского университета и его ботанического сада. Двухгектарная опытная плантация на Красной горе стала филиалом университетского сада. Число испытуемых здесь сортов и популяций перевалило за два десятка. Ученые вуза, ведущие постоянное наблюдение за питомцами, работают над созданием местного сорта повышенной морозостойкости, устойчивого к резким перепадам температур, наблюдаемым здесь в отдельные годы. |
| voice-converter@narod.ru |  |
2015 г. |